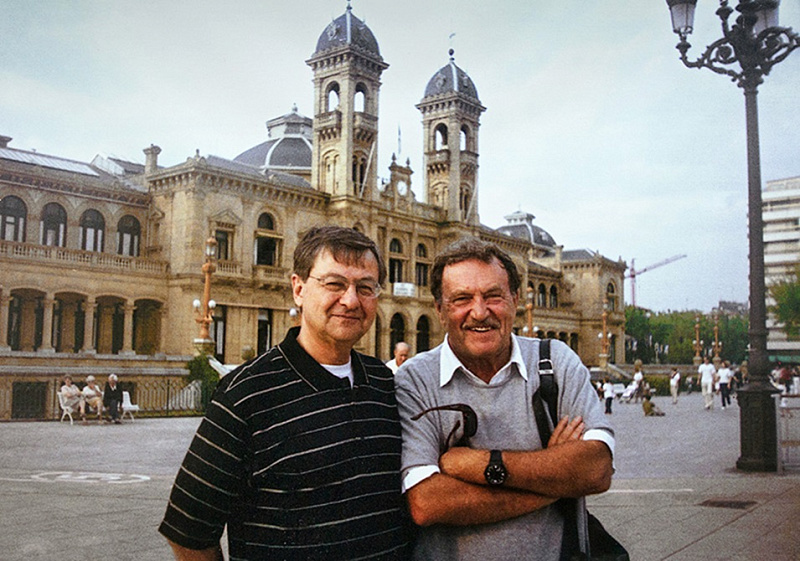25 июля своё 80-летие отмечает наш земляк, режиссёр Аркадий Кордон – кинорежиссёр и сценарист, заслуженный деятель искусств РФ. Волею судеб его малой родиной стал Барнаул, где он прожил с семьёй три года. Известность в мире киноискусства постановщику принесли такие фильмы как «Приключение Травки» (1976), «Великий самоед» (1981), «Набат на рассвете» (1985), «Приговорённый» (1989), «Будь прокляты ты, Колыма» (1992), «Послушай, не идёт ли дождь» (1999), телесериалы «Шахматист» (2004), «Гражданин начальник-2» (2005), «Дом на набережной (2007) и многие другие. Аркадий Самойлович любезно согласился рассказать читателям о себе и ответить на несколько вопросов автора материала Елены Огневой — заместителя директора по научной работе Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтайского края, члена Союза кинематографистов России.
— Аркадий Самойлович, местом Вашего рождения стал город Барнаул. Расскажите, пожалуйста, свою семейную историю, связавшую Вас с Алтайским краем.
— История, как и у многих советских семей. В начале 1930-х годов мой отец, отслужив в Красной Армии в кавалерии, был отправлен по партийному набору в Харьков на строительство одного из первенцев пятилетки Харьковского тракторного завода. Там он встретил мою мать, свою землячку из Винницкой области. Поженились. В 1934 году родился мой старший брат. К моменту начала войны мой отец, без отрыва от производства окончив рабфак, был, как тогда называли, специалистом, работал энергетиком на этом самом заводе. В июле 41-го пошёл добровольцем на фронт, но не дошёл. Его вернули со сборного пункта на завод, вызвали в партком и выдали бронь. Нужны были специалисты, чтобы перепрофилировать тракторный завод в танковый и начать поставки для фронта. Осенью 41-го, когда немецкие войска стали подходить к Харькову, началась переброска оборудования ХТЗ на Сталинградский тракторный завод. Отец был назначен командиром эшелона. Мама рассказывала, что состав был загружен станками, и в нём было только три живых души: отец, она и мой старший брат Борис. Дальше, как в кино: по дороге бомбежки по нескольку раз в сутки – но доехали. Когда части вермахта стали приближаться к Волге, снова загрузили станки в эшелон и, добавив станки Сталинградского тракторного завода, перебросили в Сибирь. В Барнауле прибывшее с двух заводов оборудование разделили на две части: одна часть была отправлена в Рубцовск на Алтайский тракторный завод, другая — осталась в Барнауле, её установили на заводе 77 (Трансмаш), выпускавшим дизели для танков Т-34.
Наша семья жила в Барнауле, в заводском бараке, страшно перенаселённом. В одной комнате с моей семьей жила женщина с маленькой девочкой из Ленинграда – их папа был на фронте. Все жили, по рассказам, дружно и помогали друг другу. Ну, а 25 июля 1945-го родился ваш покорный слуга. Сейчас уже в памяти мало что осталось из детства, но помню наш барак, какой-то яр, как крысу в нём хоронили со старшими ребятами, почему-то тучи мух летом в бараке, которых мама тряпкой выгоняла в окно. Как брат мой тайком покуривал, собирая «бычки» — такое это было поколение. С детства люблю картошку, она росла в нашем огороде, меня потом называли «чалдон». В 1948 г. пришел приказ из министерства о возвращении моего отца в Харьков. И мы вернулись.
— Ваши отрочество и юность прошли в Харькове. Как появилось желание попробовать свои силы в кино? Кто повлиял на ваш выбор профессии кинорежиссёра?
— Учителя повлияли на мой выбор. Один, Юрий Исаакович Елин, преподаватель украинской литературы в школе, второй — Валерий Григорьевич Панкратов, преподаватель русской литературы в техникуме. Я занимался художественной самодеятельностью в Детском клубе ХТЗ, был победителем конкурсов, а в 1956-м участником Всесоюзной Олимпиады пионеров и школьников в Москве. Читал запоем. Параллельно играл в футбол, у меня даже был юношеский разряд. Колебался, кем стать — артистом или футболистом. Колебания заканчивались по мере того, как у меня стала развиваться близорукость. Когда я в 6-м классе заявил родителям, что буду поступать во ВГИК, они отмахнулись от моих детских глупостей. Когда в 7-м классе приехал из Москвы к своим родителям на каникулы одноклассник моего брата, будущий известный режиссёр, а тогда студент ВГИКа, Михаил Богин, и я отправился к нему разузнать, какие экзамены надо сдавать при поступлении в единственный в СССР киновуз, мои родители отнеслись к прихоти сынули серьёзней. В семье воспринимали профессии артиста, режиссёра как несерьёзные. Правильной была профессия инженера и работа на заводе.
После семилетки меня отправили в техникум, чтобы выбить из головы эту дурь. Договорились: иди, мол, получи человеческую профессию, а там посмотрим. Но в техникуме я увлекся литературой, после него работал конструктором на ХТЗ, организовал любительскую киностудию. Был самым молодым участником заводской команды КВН, которая отличилась на Центральном телевидении. А в 1967 году поступил во ВГИК, в мастерскую режиссуры художественного фильма и телефильма народного артиста СССР профессора Александра Столпера, преодолев предварительный творческий конкурс 4 тысячи человек на 5 мест. Никто не верил, что я поступлю, и я тоже.
— Ваша первая полнометражная картина — детский фильм «Приключение Травки». В фильме столько выдумки и изобретательности, самоотдачи и вдохновения всех членов киногруппы и актёров. Легко ли дался дебют в большом кино?
— На самом деле, моим дебютом в кино стал киноальманах «Друзья мои», фильм о молодых сверстниках, снятый на «Мосфильме» в 1973 году. Он состоял из четырёх новелл студентов-дипломников ВГИКа, где одна из них, «Татьяна – Борис. Табор», была поставлена мною. По ней я защищал мой режиссёрский диплом во ВГИКе. А «Приключения Травки» я поставил через два года. Да, сейчас «Приключения Травки» стал советской детской киноклассикой. Он широко известен и востребован до сих пор. Но судьба у него была трудной. В «Приключении Травки» был применен оригинальный метод сочетания игрового изображения с участием актёров и рисованной анимации. Причём в ту пору никаких компьютеров не было, и добиться такого эффекта стоило больших трудов. По правилам того времени фильм проходил государственную приёмку. И вот на просмотре в Госкино СССР фильм был обвинен в формализме! Отрицательную реакцию вызвала стилистика изображения рисованной части фильма. Нам влепили 3-ю категорию (низшая по оплате труда авторской группы), а фильм фактически положили «на полку», выпустив ограниченным тиражом 110 копий на весь Советский Союз. Но он все равно обошёл все кинотеатры страны, преуспевая на детских сеансах. И только после Перестройки, решение было пересмотрено, фильму присвоена 1-я категория, умножено количество прокатных копий, и фильм, можно сказать, родился во второй раз. И жив по сей день. А тогда мне три года пришлось поработать вторым режиссёром, снимать рекламные фильмы, так как получить самостоятельную постановку после такого «провала» я не мог.
— Переломным моментом в вашей кинокарьере стало предложение поставить фильм о ненецком просветителе и художнике Тыко Вылке?
— Это было не предложение, а моя инициатива. Я принёс заявку на сценарий фильма в наше Творческое объединение на «Мосфильме», и эта идея как-то сразу захватила всех участников будущего процесса. Работа над этой этим фильмом подарила мне встречу, сотрудничество и дружбу с замечательным писателем Юрием Казаковым, поскольку литературной основой фильма стал его «Северный дневник». К работе над сценарием был приглашен Аркадий Филатов, и писали мы его совместно, сверяя каждый очередной вариант с мнением Казакова. Съёмки проходили в арктических широтах, что было очень сложно. На роль молодого Тыко Вылки был приглашён студент Щукинского училища Расул Укачин, сын известного алтайского поэта Бориса Укачина. Главную роль сыграл казахский актёр Нуржуман Ихтымбаев.
Работа была проведена колоссальная, но и окупилась она общественным и профессиональным признанием, многими наградами, полученными на XI фестивале молодых кинематографистов в Москве, на Международном кинофестивале в Маниле, призами «За режиссуру», Международной федерации кинопрессы и других.
— Как правило, в своих картинах вы являетесь сценаристом или соавтором сценария. Очевидно, вы очень цените хорошую литературу как первоисточник для создания кинопроизведения. Сотрудничество с какими писателями вам особенно дорого?
– Они дороги мне в равной степени, память о них храню в своём сердце. Мне посчастливилось работать с большими русскими писателями такими, как Юрий Казаков, Юрий Нагибин, Василий Аксёнов. Это бесценный опыт — в постижении их писательского дара, бескрайней щедрости их душ и глубины интеллекта. Много сценариев к моим фильмам и сериалам написаны совместно с Аркадием Филатовым, прекрасным поэтом и писателем. Я не могу снимать фильм, если при чтении сценария его «не вижу»; за всю жизнь мне попался только один сценарий, после прочтения которого, я привнёс только единственную идею: герой фильма – бывший «афганец». Сюжет не изменился, но приобрёл важную в те годы актуальность. Это был сценарий Геннадия Бокарёва, который воплотился в фильм «Приговорённый», блокбастер 1989-90 гг. и лидера продаж за границу. Так что, «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Мне пришлось стать ещё и сценаристом. Ну, а дальше так дело пошло, что иные мои сценарии обрели иных режиссёров.
— Своеобразным водоразделом в вашей творческой биографии стал фильм «Послушай, не идёт ли дождь». После этой картины характер вашего кинотворчества изменился. Так ли это?
— Нет, «Послушай не идёт ли дождь» не водораздел. Я стремился к арт-хаусу (авторскому кино, как у нас говорят) всю свою жизнь: от работ, поданных на конкурс во ВГИК и моих студенческих работ по М.Е. Салтыкову-Щедрину вплоть до «Послушай…». В советские времена у меня не было возможностей для создания арт-хауса, это было прерогативой единиц в режиссёрском цехе. Но как только она появилась в 90-е годы, я незамедлительно ею воспользовался. А по поводу фильма «Послушай, не идёт ли дождь» можно сказать, что это фильм был послан Провидением.
Через год после нашей совместной работы с Казаковым над фильмом «Великий самоед», Юрий умер в возрасте 57 лет. Спустя полтора десятка лет, я получил предложение сделать фильм о русском интеллигенте, писателе, по сути — о самом Казакове. Меня это искренне поразило, так как на экранах в то время шли дикие криминальные фильмы эпохи, так называемого, «кооперативного кино»… Казалось, всё это не в «духе времени». Но я с большим энтузиазмом взялся за дело. Фильм не является биографией Казакова, но многое взято было от образа этого писателя. Главную роль в картине сыграл потрясающего дарования и силы актер Алексей Петренко. Снимали, правда, фильм шесть лет. По принципу: есть деньги, работаем, нет — сидим, ждём и где-то подрабатываем (иногда и по полгода).
— У вас был опыт совместной работы с Василием Аксёновым. Какова история вашего знакомства? Если можно, несколько слов о совместной работе с ним.
– В 2000-м году в моей квартире раздался телефонный звонок, и я услышал до боли знакомый, глуховатый голос человека, с которым лично знаком не был: «Аркадий? Привет! Это Василий». Я напрягся, уже угадав: «Какой Василий?» «Аксёнов», — был ответ. «А-а, здрасьте, Василий Павлович», — приветствовал я. Его ответ меня обескуражил: «А почему мы с вами не знакомы?» Надо напомнить, что ВэПэ, как он велел себя называть, в 1980-м году выехал по приглашению в США, после чего был лишён советского гражданства, а в 1990-м ему его вернули. Причём, наш посол лично доставил ему паспорт домой, присовокупив к нему бутылку виски. В 2000-м году он был профессором русской литературы в университете Джорджа Мэйсона близ Вашингтона. Поводом его звонка мне стал фильм «Послушай, не идёт ли дождь», который ВэПэ случайно посмотрел в Париже перед возвращением домой. Собственно, позвонил он с поздравлениями. Юрий Казаков был другом Аксенова, и ВэПэ счёл необходимым этот факт напомнить. Позднее он написал мне подробное письмо об их совместных тусовках в 60-е, причём, написал от руки в век компьютеров. Он всегда писал оригинал от руки, а потом перепечатывал. А вот Юрий Казаков, наоборот, никогда не писал от руки, а предпочитал пишущую машинку.
Через месяц мы с ВэПэ встретились в Нью-Йорке, где я тогда жил, когда он приехал на один день получить премию по литературе. Там и возник замысел написать сценарий по его роману «Новый сладостный стиль». Я предложил назвать фильм «Шут» — и это название ВэПэ принял с ходу. На другой день я позвонил Михаилу Швыдкому, министру культуры, потом ему позвонил Аксенов, и еще через пару месяцев мы получили госзаказ на написание сценария. Это была вторая для меня возможность сделать арт-хаус фильм, но она, увы, не осуществилась. Времена стали меняться.— Аркадий Самойлович, в вашем творческом багаже есть несколько сериальных работ («Шахматист», «Гражданин начальник-2», «Сыщики-5», и др.). Что дал вам опыт постановки этих фильмов?
— Добавил бы к списку телесериал «Дом на набережной» по известной повести Юрия Трифонова, где успешно дебютировал целый ряд молодых актёров, на тот момент студентов. Я всегда любил и ценил работу с актёром, пытался понять их природу, психологическую и индивидуальную суть, помочь правильно выстроить образ и найти себя в предлагаемых обстоятельствах. Не зря говорят: «Хороший режиссёр должен уметь умереть в своём актёре». Меня считали «актёрским режиссёром», и этим званием я гордился. Может быть, поэтому со мной работали выдающиеся мастера актёрского цеха, не только в фильмах, но и в сериалах, часто, не по одному разу. Это Алексей Петренко, Ирина Купченко, Георгий Тараторкин, Валерий Ивченко, Альберт Филозов, Леонид Неведомский, Ольга Яковлева, Ирина Печерникова, Нуржуман Ихтымбаев, Юрий Чернов… Из более молодых — Александр Марин, Татьяна Яковенко (дебютировала у меня), Юрий Степанов, Михаил Мамаев, Николай Добрынин, Иван Стебунов (наш земляк, кстати) – всех не перечислишь!
Из продюсеров сериалов отмечу Владимира Досталя, вот уж кто понимает толк не только в кинобизнесе, но и в искусстве. Он чует материал буквально изнутри, ему не надо объяснять, кто есть кто, и кто на что способен. Это продюсер такого, американского типа, хотя вся его жизнь прошла в СССР и России. Мы знакомы с ним много лет, он был режиссером, Генеральным директором «Мосфильма», потом стал продюсером, пионером российских сериалов, сделал их много в новое российское время.
И, конечно, нельзя не вспомнить выдающихся композиторов, с которыми мне посчастливилось работать: Альфреда Шнитке, Исаака Шварца (в нескольких фильмах и сериалах), Софью Губайдуллину, Марка Минкова.
Работа над сериалами — это прежде всего профессиональная работа, которую следует делать хорошо. И если сериалы дают высокий рейтинг — что может быть благостней для сердца автора и режиссёра! Ведь не каждый день попадается Казаков или Аксёнов, и не каждый день случается возможность для самовыражения своим, индивидуальным киноязыком.
— В 1990-е годы хорошие картины почти не доходили до зрителей, а то, что проникало на экраны, вызвало чаще отрицательную реакцию. Как вы оцениваете этот период в истории отечественного кино, какие уроки все мы извлекли из того времени?
— Отрицательную реакцию вызывали фильмы, сделанные на скорую руку и на потребу невысоким запросам — их задачей было заработать и уцелеть. Тогда появились кооперативы по производству фильмов, такие фильмы мы называли кооперативными. Но были и значимые фильмы, они доходили до зрителя. Возможно, не стали открытием – открытия не происходят по заказу или по датам — но дали много пищи для размышлений, самоидентификации в период первичного накопления капитала, или перестроечного кино. Вспомните трилогию «Асса» Сергея Соловьева, «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова, другие фильмы, которые не хочу перечислять, чтобы кого-то не забыть и не обидеть. Они стали, как говорится, достоянием широкой общественности и заняли своё место в летописи отечественного кино.
Как вид изобразительного искусства, кино мутирует в другие его формы: сначала телевидение, потом интернет, становится достоянием масс в общении онлайн, где бесчисленные пользователи порой сами его производят в малых форматах. Это интересное явление, и не надо его бояться.
Добавлю, что массы собирает коммерческое кино с простой и незатейливой фабулой, но с потрясающими техническими эффектами; оно сопоставимо с компьютерными играми и полностью удовлетворяет зрительский спрос. В век продвинутых технологий, Искусственного Интеллекта и активно проживаемой жизни, люди не хотят и устали задумываться о Вечном. Это нельзя осуждать, но нельзя не принимать. Мир меняется и ментальность тоже. Я вообще считаю, что Большое Кино — это искусство, которое вместилось в пределы XX века, в нём родилось, в нем и умерло. Вы можете себе представить столпотворение перед кинотеатром, где идёт условный Феллини с фильмом «Восемь с половиной»? Вряд ли. А вот перед блокбастером «Звёздные войны. Пробуждение силы» — легко!
— Современное российское кино сегодня вынуждено существовать в условиях экспансии зарубежного кино. Выросшая в этих условиях молодёжь сейчас составляет основную кинотеатральную аудиторию. Понимая это, кинематографисты пытаются подражать западным образцам. Но наш ли это путь?
— А что остаётся делать, если это всемирный тренд? Молодёжь и к джинсам привыкла, и к джазу, и к западным хитам — не вижу здесь ничего постыдного. Применительно к кино, вспомните, как потрясли Запад «Летят журавли» или «Баллада о солдате». Это потому, что мы сумели что-то новое сказать им о Второй мировой войне, или, у нас, о Великой Отечественной войне. О русском человеке в той войне, о любви и долге, о жизни и смерти. Вот когда появятся свои идеи, тогда и на нас обернутся.
— Как вы думаете, возможно ли возвращение русского искусства к пониманию своего исконного предназначения, сможет ли оно помогать обществу осмысливать себя, давать жизненные ориентиры, помогать человеку находить ответы на важные вопросы о том, что делает человека Человеком? Сейчас эти задачи чаще ставит перед собой документальное кино. Игровое кино меньше озадачено этими темами, из лексикона кинорежиссёров ушли такие понятия как «служение народу», «долг художника», «ответственность художника перед обществом»…
— Русская культура была, есть и будет важной частью мировой культуры, в этом нет сомнений. Даже сейчас, в сезон, в одном или нескольких театрах Бродвея или off Broadway в Нью-Йорке, каждый день, обязательно будут давать Чехова. В репертуаре Метрополитен Опера будут русские оперы, в галереях выставляться русские художники. Лет десять назад я пересекал океан в самолёте. Через проход сидели молодые ребята, он и она, американцы. Разговорились. Оказалось, молодожёны, проводили медовый месяц в Москве и Питере. Потом достали книжки на английском и стали читать. Смотрю — Достоевский: у него «Братья Карамазовы», у неё — «Белые ночи». А кто такой Кандинский? Русский художник или западный? А Малевич? А Шагал? А Бунин? А Набоков, писавший на двух языках? А Уланова, Плисецкая — чьи балерины, наши, или «мировые»? А Эйзенштейн, вошедший во все хрестоматии мирового кино, — русский режиссёр, или западный? А Тарковский? Незабвенный Василий Аксенов не менее русский писатель, чем почвенники Валентин Распутин или Василий Белов, но в то же время широко изданный на разных языках? Каждый год на Рождество, «из всех утюгов» на Западе, звучит музыка к балету Чайковского «Щелкунчик», и никто не задумывается, чья это музыка, русская или… А я вам скажу так: русская и мировая.
Что касается, «служение народу», «долг художника», «ответственность художника перед обществом» — то я, признаюсь, всегда с опаской относился к этой терминологии. Но старался соответствовать этим критериям по личным убеждениям. Так, например, всегда считал, что Добро должно побеждать Зло, а во всех моих фильмах главный герой неизменно являлся положительным образом. Но ни в коем случае не должно быть морализаторства, поучений. Люди, если они мыслящие люди, не любят, когда их «учат жить». Если вы в фильме учите жить, ваше кино обречено на провал. Кто я такой, чтобы таких же смертных, как я, учить жить? Какое я имею на это право? Моя задача — обнажить проблему, дать зрителю пищу для размышлений, а что такое хорошо и что такое плохо, каждый решит для себя сам.
В декабре 1999-го мы — актер Алексей Петренко и композитор Исаак Шварц — оказались в Питере с премьерой фильма «Послушай, не идёт ли дождь». Когда зажегся свет, ко мне из зала подошла женщина с заплаканными глазами, в руках у неё была программка. И говорит: «Спасибо вам большое! Вы сделали такой чистый, такой светлый, такой русский фильм… А у меня мальчик, подросток, трудный возраст… Напишите ему несколько слов. Мне кажется, если такой человек, как вы, что-то ему напишет, у него все в жизни получится». Конечно, я был счастлив, что мой фильм её так взволновал, но до сих пор испытываю неловкость от того, что она обратилась ко мне, как к проявлению чего-то Мессианского. Нет, я не готов никого учить. Я не Господь Бог!