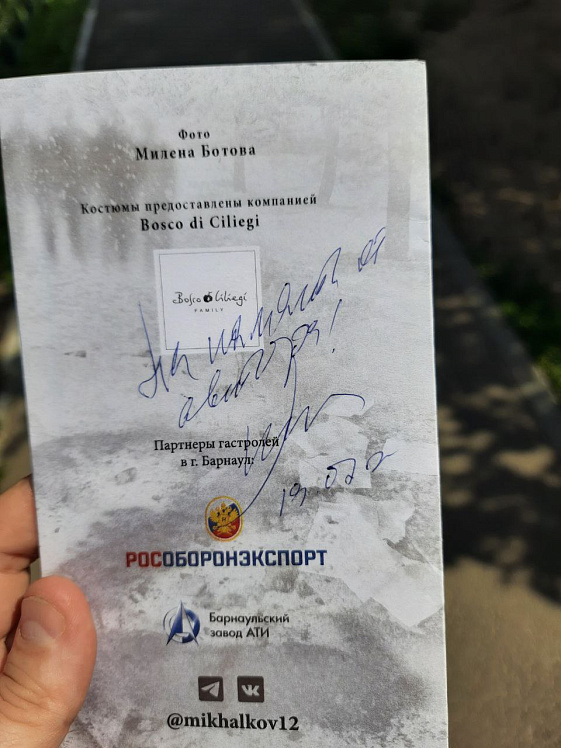Гастроли открывали мероприятия Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», приветственную телеграмму на открытие которого Никита Сергеевич, как председатель Союза кинематографистов России, всегда присылает. Зрители получили возможность увидеть два показа легендарного спектакля «12» в Барнауле и постановку «Поэзия созидания» по стихам Сергея Михалкова в Бийске.
Сомнение и судьба человека
Это история о двенадцати присяжных — мужчинах разных профессий и социальных слоёв, которые собираются, чтобы в спешке решить судьбу чеченского юноши, которого обвиняют в расправе над приёмным отцом — русским офицером. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и всё очевидно — виновен. Присяжные всем видом показывают, что это вопрос на пять минут и все они побегут по своим делам. Но проблема в том, что вердикт должен быть единогласным, достаточно одного голоса против, чтобы изменить приговор. И один из присяжных голосует: «Не виновен» и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело. И вот это — «вдумчиво» выливается во множество невероятных историй, которые заставляют каждого зрителя задуматься о своих поступках и попробовать встать на место главных героев. В итоге история превращается в рассказ о том, как сострадание, внимание к ближнему способны помочь человеку, оказавшемуся в беде, почти в безвыходном положении.
11 человек, не задумываясь, выносят парню обвинительный приговор. Ведь кто он — дикарь, «чурка», плохо говорящий по-русски, представитель народа, который отличается воинственностью, не слишком склонен следовать общепринятой морали и законам. Присяжные собираются с лёту вынести вердикт и затем вернуться к привычной жизни и забыть об этой истории. Когда же один оказывается против, все удивляются: «А зачем ему это надо?» И вот тут каждый из зрителей осознает, что все мы живём, не заботясь о чужих бедах, не желаем вникать в проблемы посторонних людей, оказавшихся в беде. «Это не мои проблемы», «Моя хата с краю», «Я у себя один» — и есть границы, за которые не стоит никого пускать, ведь это дискомфортно.
Спектакль очень кинематографичен, ведь действие в нём происходит не только в зале, но и на экране, который отделяет пространство, где работают актёры, от зрительного зала такой муаровой сеткой, и на котором показывают кадры из жизни юного чеченского мальчика и визуальные спецэффекты, и на телевизионных панелях, где исполнителей показывают крупно, позволяя видеть эмоции и мимику.
В течение трёх с половиной часов зрители внимают историям персонажей, а каждый из них рассказывает о личных жизненных ситуациях, коллизиях, радостях и бедах, которые шаг за шагом склоняют решение присяжных в пользу парня. Появляются невероятные обстоятельства, новые факты, предположения, и вот уже парень не убийца, а жертва сговора, оговора и преступления, цель которого — дорогие квадратные метры в столице.
Истории персонажей очень пронзительны, актёры перемежают их шутками, афоризмами, анекдотами и даже бранными словами, которые органичны и оправданы в спектакле.
«Вы знаете, с некоторых пор я верю, что в жизни всё возможно, абсолютно всё, даже то, что невозможно», «Как говорил мой дедушка: ссать и родить нельзя погодить... », «Не папа, а мечта антисемита», «Мама тоже была не сахар», «Ротвейлер — это не фамилия, а порода собаки» — говорит 4-й присяжный-еврей.
Герой Никиты Михалкова рассказывает анекдот в духе мичмана Криворучко, фразой которого «про расходимся по одному, если что мы – геологи» режиссёр всегда завершает программы канала «Бесогон» — про роту солдат, которая идёт по говну.
В спектакле заняты как звёзды кино — Сергей Степанченко, Владимир Долинский, Николай Бурляев, так и актёры театра «Мастерская 12», тоже весьма известные в театральном мире. Кстати, Николай Бурляев – однокурсник Никиты Михалкова. Он тоже был занят в той давней студенческой работе, и спектакль – своеобразная дань уважения их студенческой юности.
В финале чеченского парня выпускают из клетки, установленной на сцене, и его встречает герой Михалкова — художник-ветеран боевых действий. Он принимает решение забрать парня к себе и инициировать негласное расследование смерти его отца.
«Не плачь, мы их найдём», — говорит он парню, и ему веришь!
На радостях парень танцует одиночную мужскую лезгинку, в которой чередуют движения, отражающие полёт орла над горами, умение держать лук и стрелы. И вместе с героем, в исполнении Рамиза Кялбиева, лезгинку исполняет детский московский ансамбль абхазского танца «Амцабз» (под руководством Лаши Марыхуба). И это — потрясающий финал!
Актёры спектакля эффектно простились со зрителями, кидая в зал букеты, которые им вынесли помощники, и кепки с названием спектакля. Кому повезло, успели поймать такие роскошные театральные сувениры!
«Энергия тишины зала»
Перед вторым показом спектакля «12» в краевой столице Никита Сергеевич встретился с алтайскими журналистами, которые накануне посмотрели постановку и задавали вопросы уже со знанием дела.
— Никита Сергеевич, спектакль идёт уже почти пять лет, и за это время реалии, о которых идёт речь, несколько изменились. Изменилось отношение к чеченцам, которые из бандитов 90-х, «дикарей», как звучит в спектакле, превратились в самые боеспособные воинские подразделения на СВО. Это как-то повлияло на ваше видение спектакля?
— Нет, это не так. Вообще чеченская тема здесь в большой степени вспомогательная. Разговор идёт о другом. Разговор идёт о том, насколько сегодняшний человек имеет желание и возможность потратить свои силы, время, средства на другого человека. Это не просто история про чеченского мальчика. Что касается всех тем, которые мы затрагиваем, они, в общем, вечные. И в данном случае возможность приблизить происходящее на сцене к тому, что происходит в жизни, это достаточно органичная возможность для этого спектакля. Он, как конструктор «Лего», может складываться и возникать новой темой, хотя основные вопросы остаются всё теми же вопросами. Поэтому и слоган спектакля «Про всех и для каждого». Потому что и человек, сидящий в партере, или человек, сидящий на галёрке, или в директорской ложе, каждый может получить в этом спектакле что-то своё. Может быть, именно поэтому он в определённом смысле универсален с точки зрения отношения зрителя. Есть спектакли, судьба которых решается определёнными усилиями – о них пишут, хвалят-ругают, привлекая внимание. О нашем спектакле очень немного писали. Он существовал и развивался сам по себе. Я понимаю причину этого и абсолютно на это не сетую, потому что настоящее, как бы его ни называли фуфлом, оно всё равно будет настоящее. Я убеждён, что время – это сестра правды. Поэтому для нас спектакль не то, как его смотрят, и даже не то, как принимают в конце, а как его слушают. Самое дорогое — это энергия тишины зала. Если вы смотрели спектакль, вы слышали, как зал внимает тому, что происходит. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, спектакль — не стенгазета, сегодня одни реалии и проблемы актуальны, завтра другие. Но думаю, что когда одно уйдёт, появится что-то другое и органично вольётся в спектакль.
Использование мультимедиа-эффектов в спектакле режиссёр объяснил так. По словам Никиты Михалкова, такой формат выбран потому, что его академия называется Академия театрального и киноискусства.
Моя работа в кино всегда была связана с методом работы в театре и наоборот. Поэтому мы используем все возможные визуальные эффекты, связанные с кинематографом. Это то же самое связано со звуком. В нашем театре «Мастерская 12», который открыт в здании бывшего театра киноактёра, есть голография, уникальные абсолютно возможности для удивительных экспериментов, скажем, для детских спектаклей и сказок. Я знаю точку зрения коллег, среди которых и мой брат Андрей, которые категорически против микрофонов. Они за живую речь актёрскую на сцене. Я понимаю это желание, но в то же время убеждён, что возможность приблизить зрителя максимально к происходящему без этого театрального отделения рампы, когда актёр подаёт текст для того, чтобы было слышно на галерке, и очень многие чувства, которые развиваются на сцене, они вынуждены быть, так сказать, чуть-чуть показными, с неким напором, нажимом. В данном случае мы имеем возможность даже шёпот услышать, что, в принципе, на мой взгляд, только увеличивает близость сцены с залом. Вчера мне кто-то сказал, что было ощущение, и это я слышал уже несколько раз, ощущение того, что мы подглядываем, что происходит, что нам не показывают это, а мы как бы заглядываем туда. Для меня лично это самое ценное. Потому что одно дело, когда зритель сел, и его внутренние ощущения: ну давайте, я заплатил, давайте, прикиньтесь, покажите-ка мне, что вы можете. Это одно дело. А другое дело, когда он работает. И он за эту работу благодарен. Вообще, мне кажется, что, в принципе, настоящий зритель должен быть благодарен больше за ту работу, которую его заставили делать, нежели за то удовольствие, которое он получил.
— Возвращаясь к правде, которая звучала в вашем финальном обращении к зрителям. Правда — в названии нашего кинофестиваля, и в передаче «Бесогон» вы всегда говорите правду, иногда очень неудобную. Это тяжело?
— Вы знаете, правду говорить не тяжело. Тяжело врать, потому что приходится всё время запоминать, что наврали. Но дело в том, что Шукшин сказал: «Ты счастлив, когда ты смел и прав». Это удивительно точные слова. Смел и прав. С другой стороны, твоя правота, она тоже относительная, она не может быть абсолютно объективной. У Феллини в картине «Восемь с половиной» герой, который олицетворяет настроение творческого кризиса, Гвидо Ансельми, в конце говорит: «Я хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу». Это удивительно точная формулировка, под каждым словом которой я готов подписаться. Я хочу говорить правду, которую я не знаю, но которую я ищу. Но для этого нужно искать правду. И хотеть её искать. А не выдавать за правду то, что тебе заказали. Это разные вещи. Многих людей правда, которую мы говорим в «Бесогоне», раздражает, вызывает тяжёлые и нехорошие чувства. Но с другой стороны, нас смотрят 17 миллионов, которые знают, что мы делаем это не за деньги. У меня контракт с ВГТРК на 100 рублей. Мы не получаем ни одной копейки ни с канала, ни с государства. И это даёт основание не бояться, что тебя можно потрепать по щеке и сказать: «Ладно, давай, мы тебе платим, сделай то, что нам надо». Я очень благодарен каналу за такие отношения. Они рискуют. Они получают программу за день до её выхода. Ну, конечно, это для них риск большой, для всех, и для меня, и для канала, и для нашей команды. Но с другой стороны, это гарантия того, что то, что мы делаем, мы за это отвечаем, и канал верит нам. Я думаю, что это один из уникальных случаев на нашем телевидении сегодня. Даже если ты говоришь вещи, которые не имеют под собою фактического подтверждения, но опасность того, что это может быть, существует, то мы берём на себя смелость превентивно об этом сказать, даже если ещё не случилось, в надежде, что это поможет тому, чтобы и не случилось вообще. Это тонкая работа, тяжёлая работа.
— Насколько сложно привести такой большой спектакль?
— Сложно. Это как воинская операция! Ведь нас 100 человек, оборудование, экраны, компьютеры, свет. И без помощи Министерства культуры страны и региона, проекта «Большие гастроли», Росконцерта, Рособоронсервиса, заводов и предприятий регионов, в которых мы выступаем, — у вас это завод АТИ, поддержки глав регионов, это было бы невозможно. Но, с другой стороны, я совершенно уверен, что очень важно, чтобы такой спектакль был не только в Москве, чтобы его видели в стране. Он в какой-то степени является некой всё-таки объединяющей силой. Ведь это очень важная вещь, когда люди в зале соединяются друг с другом в одном эмоциональном порыве, да? И люди на сцене, которые соединяются вместе в этом же порыве. И это идёт взаимный обмен энергией. Нашей, с одной стороны, и зала — с другой. А лакмусовой бумажкой для понимания, что эта энергия существует, это тишина. Конечно, есть весёлые спектакли, и зрители в зале ведут себя громко, но в нашем случае признак успеха — это когда номерок из гардероба упадёт, а никто этого не слышит, потому что все там, на сцене. И настоящий спектакль для меня — это когда реальное время на сцене совпадает с реальным временем в зрительном зале. И чем больше такого совпадения, тем лучше спектакль. Всё-таки три с половиной часа высидеть нелегко. Что может удержать? Только то, что я не могу оторваться, потому что мне важно понять, чем это кончится. И для нас это самый большой подарок.
— Спектакль поднимает тему русского офицера. Ваш герой — русский офицер. И фамилия у него Котов. И всем понятно, откуда возникла фамилия — комдив Котов, герой «Утомленных солнцем». Вы намеренно дали её своему герою?
— Конечно, я рассматриваю спектакль как продолжение истории, которую рассказал в фильмах — и в «Сибирском цирюльнике», и в «Утомлённых солнцем». Получит ли эта тема дальше развитие? Как Бог даст. Вы знаете, если хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Основа жизни — это когда есть желание, желание что-то делать. Так или сяк. У Юрия Лощица в книге про Гончарова он замечательно пишет, что «счастье — это не когда получилось, не когда получится, а когда получается». Вот это самая большая радость в работе. Мои бывшие студентки три года снимали мою работу с актёрами, репетиции. И сделали из этого документальный фильм «Метод». И это очень увлекательно получилось — посмотреть, как идёт работа. А нацеленность и энергия работы очень заразительны. Я думаю, что для студентов вообще, для тех, кто занимается нашей профессией, это может быть интересный материал. И его, как я понял, планируют показать в рамках вашего фестиваля.
Министр культуры Елены Безрукова пояснила, что картину покажут в рамках программы «Шукшин молодой» в парке «Изумрудный» в один из дней фестиваля.
Завершился разговор с режиссёром и мэтром российского кино традиционной фразой: «Ну что, расходимся по одному?». Но так просто Никиту Сергеевича Михалкова не отпустили. Он дал автографы и сфотографировался с участниками пресс-конференции, а также с представителями компаний, которые помогли с проведением гастролей в Алтайском крае.